|
Рукопожатие для Пушкина
Светлана Рахманова
Наш сегодняшний собеседник – поэт и публицист Юрий Кублановский. Человек неординарной судьбы, которому в 1982 было предложено, покинуть СССР и который был вынужден восемь лет жить в эмиграции по причине того, что его поэзия противоречила тогдашней советской идеологии. Между тем, высокий поэтический талант Кублановского признавали такие выдающиеся литераторы, как Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Лев Лосев, Фазиль Искандер, Семен Липкин и другие.
В настоящее время Юрий Михайлович живет в писательском поселке Переделкино, по нескольку месяцев в году проводя во Франции и путешествуя по миру.
– Юрий Михайлович, Вы верите, что «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»?
- И да, и нет. С одной стороны мы все объединены одной технотронной цивилизацией. Это еще коммунисты могли мечтать о построении общества, отгороженного от Запада. Сегодня нас всех объединил интернет и в значительной степени потребительская идеология.
– Вы для себя не решили, будет ли жива поэзия через двадцать лет, ведь даже с творчеством Пушкина знакомы не все россияне?
- И все-таки, как говорится, надежда умирает последней. В свое время Евгений Боратынский был уверен: «И как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я». У меня такой уверенности сегодня нет. Хотя, не могу представить России без настоящей поэзии.
И то правда, разве можно себе вообразить, что какое-нибудь семейство собралось вечером в кружок и читает «Капитанскую дочку»? Увы, это непредставимо. Происходит культурное одичание, даже в интеллигентных семьях дети предпочитают компьютерные игры или телевизор.
- Может, Пушкин просто теряет актуальность? Ему на смену приходят Пелевин, Быков, другие авторы?
- После революции 1917 Владислав Ходасевич предсказывал, что именем Пушкина предстоит «нам перекликаться в надвигающемся мраке». И действительно, Пушкин первым увидел Россию всю, в цельности. В его творчестве нашлось достойное место и древней Руси, и Петровской империи, и Западу, и Востоку, и свободе, и государству. Во времена советского агитпропа Пушкин помогал оставаться в лоне русской культуры. Но в последние годы Пушкин отдалился от нас на бoльшее расстояние, чем за предыдущие семьдесят советских лет. Увеличивается, углубляется ров между народом и Пушкиным! Через века Пушкин протягивает нам руку. Готовы ли мы ответить ему достойным рукопожатием?!
Как смогут осмыслить современные тексты те наши дети, которые не открывали Пушкина, Фета, Чехова, Достоевского? Как встретят они вызовы, адресованные им мировой историей? Избалованные, духовно незакаленные, где найдут силы к сопротивлению? А ведь с теми же пушкинскими стихами становится жить не страшно, вернее, почти не страшно. Пушкин укрепляет душу, развивает ум, награждает мудростью, учит мужеству - дарит ту красоту, которая закаляет характер. «Не железом, а красотой спасется русская радость», – сказал когда-то Николай Клюев. Но где теперь она, красота?
Наше отечество позволило втянуть себя в воронку потребительской цивилизации едва ли не на ее финише. Удастся ли отстоять хотя бы собственный культурный мир и независимость мирочувствования – зависит лично от каждого человека. «Самостоянье человека – залог величия его», – сформулировал Александр Сергеевич Пушкин, и эта формулировка бессмертна.
- Каких авторов вы бы порекомендовали сегодняшней молодежи для обязательного прочтения?
– Всех! Всех русских писателей и поэтов. А из последних обязательно нужно читать Солженицына. Он, кстати, очень интересный поэт. Александр Исаевич умел чрезвычайно удачно положить свой жизненный опыт на поэтическую ритмику.
Пишущему человеку читать нужно обязательно. Поле поэзии богато. Особенно в первой половине ХХ века. Да и во второй. Сейчас, к сожалению, я остро чувствую культурное измельчание. Но это не российский кризис, а общемировой. На Западе поэзия вслед за живописью тает, уходит. Кризис это или вымирание – время покажет в ближайшее десятилетие.
Поэзия в культурном смысле аристократична. Но кажется, после французской сексуальной революции 1968 все традиционные ценности, связанные с христианским миром, оказались размыты. И эти негативные процессы, ускоряясь, продолжаются.
А между тем в нынешнем виде цивилизация себя идеологически и даже физически изжила. Она зиждется на постоянной стимуляции потребления, а у планеты нет ресурсов, чтобы удовлетворять гипертрофированные аппетиты.
– Каким вам видится современный поэтический процесс?
– По-моему, поэтический взгляд на мир сегодня имеет большие дефекты. Патетика, к примеру, вся на корню стала восприниматься как что-то постыдное. Уходит религиозное осмысление бытия.
Его заменяют однотипные иронические ужимки. Настораживает появление неких «рецептов», лекал, по которым теперь стряпают поэтическую действительность. Ирония, сарказм, скептицизм, немножко матерка. Так называемые «русские цветы зла».
Все это, глубоко чуждое русскому классическому лирическому сознанию, широко льется на страницы журналов, распространяется через Интернет и едко отравляет читателя.
Да, чернухи, по сравнению с началом 90-х, стало меньше, зато появились гламур, глянец и какой-то не выношенный в сердце патриотизм.
Писателю и читателю важно не пойти на поводу за ненастоящим, не соблазниться. Так что задачи перед молодыми литераторами сейчас не менее сложные, чем перед нами во времена «застоя», когда мы сопротивлялись советской цензуре и главлиту.
К сожалению, в начале 90-х мы вместе с коммунистической «водой» выплеснули «ребенка»: бескорыстное и жертвенное служение слову, которое живительно теплилось под корой советской системы. Отечественную литературу заклеймили за «бациллы учительства». Сегодня мы живем в обстоятельствах, напрямую связанных с тогдашним распадом. Разве Россия без поэзии, без прозы – не ернических, а глубоких и энергичных – это Россия?
– Стихи пишут многие, в том числе авторы нашей «Литературной кухни». И всех, конечно, волнует вопрос – это настоящая поэзия или поток рифмованных строк? Как отличить поэта от графомана?
– Первое свойство поэта – врожденный поэтический слух. Такая же вещь, как слух музыкальный. Он или есть, или нет. Это я с годами понял. Прежде мне казалось, что понимать поэзию способен любой культурный человек. Ничего подобного!
– А что значит – поэтический слух?
– Врожденное чувство, позволяющее отличать подлинное от туфты. Откуда он? - Тайна Божия. Откуда берется дарование, оттуда же и слух.
– Скажите, что еще нужно настоящему поэту?
– Опыт и соприкосновение в течение жизни с огромным количеством текстов, как профессиональных, так и любительских. Как графоманских, так и ремесленных.
С опытом приходит понимание. Сейчас мне достаточно двух-трех строф, чтобы я решил, чего от молодого автора можно ждать. Объяснить это рационально сложно.
Талантливый текст отвечает множеству признаков. Есть ли в нем чудо, внутреннее преображение? Или это эпигонство, нарочитый заемный авангардизм.
Конечно, важна интонация. Например, 10–15 лет назад многие молодые люди писали в интонации Бродского. У него такая интонация органична, выношена, приобреталась смолоду и долго. Это интонация лирического скепсиса, горечи, прикрытой порой фрондерством. У других то же самое выглядит неубедительно, походит на одежки с чужого плеча. Работая редактором отдела поэзии в «Новом Мире», я сразу откладывал тексты, в которых такое замечал, никогда их не печатал.
Русские стихотворные размеры, не умаляясь, кочуют от автора к автору. Русская поэтика далеко не исчерпана. Еще можно работать и в пятистопном ямбе, и в хорее, достигая новизны внутри традиционного размера. Вдохновение всегда преображает его.
– Как автору совершенствовать технику?
– Может, я выскажусь непедагогично, но я против рутинной литературной учебы. Считаю, что учиться на писателя в Литературном институте не обязательно. Пишущий человек осваивает поэзию отчасти интуитивно. Отчасти – благодаря внимательному чтению предшественников. Всех, начиная от Ломоносова и Тредьяковского.
Конечно, размеры стоит изучить. Это не так сложно. Но научиться поэзии, не обладая талантом, невозможно. А слабенькое дарование даже рискует закиснуть и вместо свежести приобрести патину ремесленника, от которой потом не избавишься.
Кажется, я всегда смогу отличить поэта, окончившего Литинститут, от того, кто находился в свободном плаванье. Это, конечно, совсем не означает, что в «Новом Мире» мы не печатаем выпускников Литинститута. Так, моя соседка по даче Олеся Николаева, окончив этот вуз, сохранила и даже преумножила свой дар. Но в целом человеку, который чувствует в себе поэтические способности, я бы туда поступать не советовал. Целесообразнее обрести какую-нибудь параллельную профессию. Лучше – гуманитарную: историка, филолога или искусствоведа.
Подобный совет, когда я был еще мальчишкой и жил в провинции, мне дал Андрей Вознесенский. Очень не рекомендовал идти в Литинститут. Отчасти благодаря его убедительным наставлениям я поступил на искусствоведческое отделение в МГУ и не пожалел об этом. Ведь, имея еще одну профессию, приобретаешь дополнительный взгляд на изящную словесность, уже с точки зрения этого культурного ремесла.
Когда-то я начинал как художник. Лет с 12–13 все время рисовал. Ходил в изостудию, за лето делал по сто с лишним этюдов. И уже понимал, как положить акварель, как одна краска должна затекать в другую.
А потом вдруг пришло поэтическое вдохновение. Оно пересилило. Я понял, что могу стать хорошим художником, но состояться как оригинальному мастеру мне не удастся. Отчасти – из-за собственной недостаточной даровитости и нехватки воображения. Отчасти – поскольку изобразительное искусство сейчас вообще почти кончилось, заменилось поставангардистскими проектами.
– Это вы в 16–17 лет решили, что вам не стать художником?
– Да, в 16. Пушкин с Лермонтовым в эту пору уже написали по многу шедевров. Это сейчас до старости ходят в литературной молодежи. И в 27, когда Лермонтова убили, считаются мальчиками, начинающими авторами.
– Повлияло ли увлечение изобразительным искусством на вашу лирику?
– У меня в стихах выпуклый визуальный ряд. Бывает, пишу стихотворение, будто раскладываю этюдник. Часто импульсом для стиха является зрительное впечатление. От состояния природы, пейзажа.
Оказывается, искусствознание для поэта - весьма ценная профессия. Оно дает широкий взгляд на мир. Как иначе, когда носишь в душе и Возрождение, и иконопись, и искусство ХХ века?!
Я до сих пор читаю искусствоведческие труды, дружу с крупными учеными. С Дмитрием Владимировичем Сарабьяновым, например, который был руководителем моей дипломной работы об объединении художников 10-х годов прошлого века «Голубая Роза». А точнее о станковом творчестве Николая Сапунова.
Серебряный век был еще полузапрещенным. В пику этому общепринятому тогда представлению я его абсолютизировал, не понимая, что там существуют немалые изъяны. Изъяны моральные, стилистические. В том же Сапунове, также как и в его близком друге поэте Михаиле Кузмине, была сильная моральная червоточина.
– Как вы познакомились с Иосифом Бродским?
– Познакомились на Западе, хотя до этого была встреча здесь, но не самая значительная. Будучи смогистами (литературное объединение «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» (СМОГ), существовавшее в середине 60-х годов прошлого века, – ред.), мы читали Бродскому стихи. А в конце 70-х я отправил ему большой корпус своих стихов в Америку. Вскоре в мичиганском издательстве вышла моя первая поэтическая книга «Избранное» под его редакцией.
Когда я в 83-м оказался за границей, Бродский мне очень помогал, особенно попервоначалу. Позвонил мне в первый же вечер в Вену. У нас вышел довольно смешной разговор. Иосиф спросил: «Простите, что у вас сегодня на ужин?» - «Пиво и соленый рогалик». – «Вот разница поколений!» - засмеялся в ответ поэт, - «Я в первый вечер в Вене ел бананы, запивая кока-колой».
Потом, будучи проездом в Париже, Бродский пришел в «Русскую мысль», в которой я тогда работал. Мы долго гуляли по Парижу, и он расспрашивал меня обо всем, что творилось в России.
Мы встречались всего несколько раз. В Париже, Нью-Йорке и Амстердаме. Все встречи с Иосифом для меня чрезвычайно памятные. Я помню до пуговицы, во что он в первый раз был одет, что говорил, как выглядел. Таких фигур ведь мало, они сразу выделяются своей, как сейчас выражаются, энергетикой. А попросту говоря, умом и незаурядностью. Столь же ярким человеком являлся Александр Исаевич Солженицын.
Стихи Бродского – вечные спутники моей жизни. Однажды под Парижем в Кламаре у отца Михаила Осоргина в его домашней маленькой церкви, которую расписывал еще Бенуа, ко мне подошла очень пожилая женщина. Я не сразу ее узнал. Оказалось, это многолетняя подруга Иосифа Вероника Шильц, которой посвящены его замечательные стихи конца шестидесятых «Прощайте, мадемуазель Вероника». Дом с аптекой, описанный в этом стихотворении, и теперь на Тишинке. Так вот, оказалось, что в последние годы эта блестящая парижанка, интеллектуалка Вероника Шильц приняла православие.
– Расскажите, пожалуйста, об истории, которая стоит за вашим стихотворением, посвященным Бродскому.
– Съездив в 1986 с Вероникой Шильц в Турцию, Бродский создал свое яркое эссе «Путешествие в Стамбул». Там все непонравившееся в Турции он приписал традициям Византии. В письме ко мне он попросил ответить, что я об этом думаю. А я решил ответить в стихах. В них упоминается храм Спаса Преображенского полка. Это храм напротив окон его дома в Питере.
– Какие у вас остались впечатления от работы редактором поэтического отдела в «Новом мире»?
– Каждый год я получал несколько сотен рукописей. А напечатать мог лишь 48 авторов. На страницы журнала попадали какие-то крохи. Отбор шел очень трудный, как сквозь мелкое сито. Но я радовался, когда получалось опубликовать талантливого поэта, особенно ежели он из провинции.
Теперь я на протяжении нескольких лет являюсь членом редакционного совета журнала. Вполне доволен появлению некоторой дистанции между собой и от текущим поэтическим процессом. Теперь мне удается посмотреть на него «со звезды».
 
Представляем стихи из готовящейся к выходу книги Юрия Кублановского «Долгая переправа», а также из уже вышедших сборников.
После музыки
Когда заплывая в музыку,
смотришь из тьмы на сцену –
на несметные манишки оркестра
или на сосредоточенных одиночек
за необъятным роялем,
потертой виолончелью,
подбородком придерживающих скрипку –
глаза бывают на мокром месте.
Ибо каких еще надобно доказательств
весче этих, консерваторских,
что мы не просто отпрыски инфузорий,
запоротый материал природы,
тати и сребролюбцы,
но творения сами –
раз могли сотворить такое,
а потом исполнять на память или по нотам,
веки беспокойные прикрывая.
***
Вчера мы встретились с тобой,
и ты жестоко попрекала
и воздух темно-голубой
разгоряченным ртом глотала.
Потом, схватясь за парапет,
вдруг попросила сигарету.
Да я и сам без сигарет
и вовсе не готов к ответу.
Там ветер на глазах у нас
растрачивал в верхах кленовых
немалый золотой запас
в Нескучном и на Воробьевых...
Да если б кто и предсказал,
мы не поверили бы сами,
сколь непреодолимо мал
зазор меж нашими губами.
Сбегали вниз под пленкой льда
тропинки с поржавевшей стружкой...
И настоящая вражда
в зрачке мелькнула рысьей дужкой.
Грешнево
Золотисто-иконостасные
дни такие, что на колени
опускаешься, видя красные
капсулы шиповника в светотени.
Нет, моя Россия не для запойного
дурака на селе ли, в городе,
но для верного, беспокойного
сердца, что горячо и в холоде.
Но она и для сердца падшего.
Ездил в Грешнево – там в печи
темнота; шелестит опавшее…
Вот и снится с тех пор в ночи
разоренный склеп Некрасова старшего:
осыпная яма и кирпичи.
Ноябрьская элегия
Стала я подругой мужа
и теперь из-за реки
вижу родину все ту же,
те же в рощах огоньки.
Е. С.
Подчистую сдули листву ветра,
забурев, на землю она упала.
Тишина такая – как до Петра
перед самым благовестом бывала.
Барбарис от холода потемнел,
клонит гриву, схваченную морозцем.
Я стоял за лирику как умел,
став ее поверженным знаменосцем.
За рекою роща обнажена,
и зажегся вдруг огонек ночлега.
От греха подальше накинь, жена,
шерстяной платок накануне снега.
Скоро волны белые будут спать
и фосфоресцировать у порога,
а несметность космоса искушать
неопределенностью – и мешать
прямодушной вере в живого Бога.
***
Иосифу Бродскому
Систола – сжатие полунапрасное
гонит из красного красное в красное.
...Словно шинель на шелку,
льнет, простужая, имперское – к женскому
около Спаса, что к Преображенскому
так и приписан полку.
Мы ль предадим наши ночи болотные,
склепы гранитные, гульбища ротные,
плацы, где сякнут ветра,
понову копоть вдыхая угарную,
мы ль не помянем сухую столярную
стружку владыки Петра?
Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
дерева, где воронье?
Нам умирать на Васильевской линии!
– отогревая тряпицами в инее
певчее зево свое.
Ведь не тобою ли прямо обещаны
были асфальта сетчатые трещины,
переведенные с карт?
Но воевавший за слово сипатое
вновь подниму я лицо бородатое
на посрамленный штандарт.
Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.
Синее – это когда пригнетаются
беженцы к берегу, бредят и маются
у византийских камней,
годных еще на могильник в Галлиполи,
синее – наше, а птицы мы, рыбы ли
это не важно, ей-ей.
Друг, я спрошу тебя самое главное:
ежели прежнее все – неисправное,
что же нас ждет впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное – это из красного в красное
в стынущей честно груди.
На черноморском закате
Еще сердолики
не стали тогда мародеров
добычей – и крики
там чаек хриплы от укоров.
Великолепие, затрапеза,
богемность Крыма.
И наша встреча у волнореза
как пантомима.
Вот так же некогда повстречались
Эфрон с Мариной…
По небу гряды перемещались
тьмы голубиной.
Он с войском, терпящим пораженье,
ушел за море.
Есть белизна и в моем служенье,
его растворе.
Жизнь отмеряет нам срок за сроком,
блазня отсрочкой.
Вон огоньки на мысу далеком
зажглись цепочкой.
Перекличка
Е.Шварц
Есть в приграничье мира
гордость проводников -
Северная Пальмира
С цвелью проходников.
Там, уходя в манящий
сумрачный эмпирей,
напутствовал уходящий
живого «не хмурь бровей».
Чайку относит ветром
вместе с криком ее,
словно суму с конвертом
на имя,
имя твое.
…Где это? Долгий целый
век тебя пролюбив,
нынче гляжу на белый
выветренный обрыв,
выверенные вспышки
старого маяка
в вымершем городишке
с выдохом коньяка
в силу дурной привычки
пить за один присест
в сумерки – с перекличкой
ила
и ранних звезд.
***
Crepuscule d’impressionniste
Судьба уложилась не в день и не в два –
в столетие, много столетий.
Набита натруженная голова
осколками всех междометий.
Вмурованы только моллюски в куски
полудрагоценной породы,
но запросто стерты, как губкой с доски,
из памяти целые годы.
Подобно слепцу их нащупать хочу,
да ведь не по силам и не по плечу.
С какой быстротой прибывает вода –
имела оттенки металла
она в неустойчивые холода,
горчичною в паводок стала,
сшибаясь с заиленным рустом моста
и вязь черновую смывая с листа.
…По детству волжанин, по жизни изгой,
за альфу принявший омегу,
то землю спросонья цепляю ногой,
то вдруг приготовлюсь к разбегу.
И в сумерки с отсверком ранних огней
меня, будто старого зубра,
Ты встретишь, с занятий спеша из дверей
учебного корпуса Лувра.
|
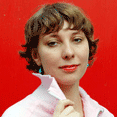
Светлана Рахманова
Журналист, психолог, автор книг по популярной психологии. В 2000 по приглашению Риммы Казаковой участвовала в Совещании молодых писателей в Переделкино. Редактор поэтической рубрики в журнале "Студенческий меридиан", ведущая творческого клуба "Литературная Кухня". По натуре – оптимистка. Любимый писатель – О.Генри.
Мои книги по психологии, вышедшие в издательстве "Феникс": "Популярная психология для тинейджеров", "Трудные люди", "Психологическая гимнастика", "Новая психология для поколения next", "Если ваш мужчина тиран", "Как приручить дракона".
Электронка для связи: svetlana-rachmanova@yandex.ru
|